КАК АМЕРИКА ПРИШЛА К ПРОТЕКЦИОНИЗМУ
Глобализация, отсутствие социальной политики и гнев среднего класса
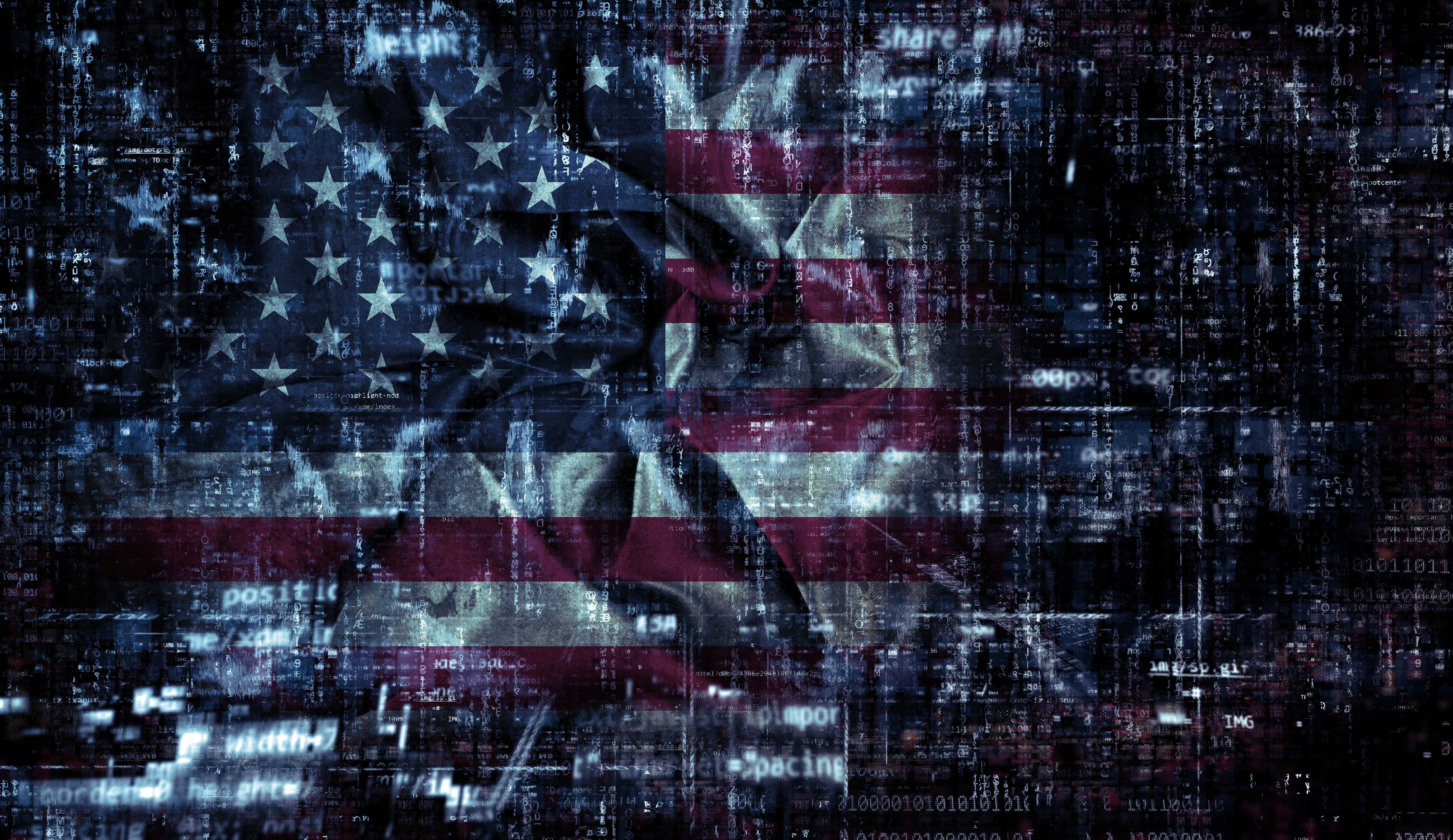
Изображение: kjpargeter/Freepik
Если торговую политику администрации Дональда Трампа можно сравнить с политическим землетрясением, то долгосрочные трудности, с которыми сталкивается американский средний класс, представляют собой тектонические сдвиги, сделавшие подобное потрясение практически неизбежным. В данной публикации THE TENGE представлена адаптация статьи Ричарда Болдуина — профессора международной экономики IMD Business School (Лозанна), основателя и главного редактора платформы VoxEU. В ней исследуется, как торговая стратегия США стала реакцией на нарастающее недовольство среднего класса.
Подобно другим развитым экономикам, Соединённые Штаты испытали давление со стороны глобализации и технологических преобразований. Однако, в отличие от большинства своих партнёров по ОЭСР, США не смогли обеспечить эффективную адаптацию рабочей силы к новым экономическим реалиям. Это стало следствием демонтажа элементов социальной политики, заложенных ещё в эпоху Нового курса, и отказа от активного участия государства в смягчении социальных последствий экономических трансформаций.
Отказ от политики социальной поддержки привёл к нарастанию экономического недовольства, устойчивому ощущению несправедливости и, в конечном итоге, к избранию открытого протекциониста. Вместо того чтобы проводить структурные реформы, включая внедрение более эффективной социальной политики по образцу Канады, руководство страны сосредоточилось на введении тарифов — не как на инструмент решения проблем, а как на политическое оправдание бездействия. Реализация более амбициозных социальных программ оказалась политически невозможной из-за необходимости повышения налогов и расширения роли государства.
Понимание современной торговой политики США требует глубокого анализа. Без осознания масштабов и причин недовольства американского среднего класса, накапливавшегося десятилетиями при администрациях обеих партий, объяснение происходящего становится практически невозможным. Изучение ошибок традиционных демократов и республиканцев может быть неприятным, но оно позволяет осознать устойчивость новой американской позиции во внешнеэкономической политике.
Фактически, именно социальное напряжение и политическое раздражение в рядах среднего класса стали причиной перехода США от торговой осторожности в годы первого срока Барака Обамы к враждебности в период президентства Трампа. Во втором сроке последнего это трансформировалось в политику, близкую к экономическому изоляционизму.
Задать вопрос о причинах гнева американского среднего класса — несложно. Гораздо сложнее дать на него содержательный ответ. Далее в тексте рассматриваются коренные причины этого недовольства и прослеживается их развитие на протяжении последних десятилетий.
Гнев среднего класса, вызванный экономическими и статусными проблемами
Гнев, охвативший американский средний класс, нельзя считать иррациональным — он укоренён в объективной экономической реальности. Для значительной части населения США приобретение дома, в котором они сами выросли, стало недостижимой мечтой. Надёжность занятости, воспринимавшаяся их родителями как само собой разумеющаяся, утрачена. Сегодняшний доход среднего класса всё реже позволяет вести образ жизни, соответствующий его прежнему стандарту.
Однако проблема выходит далеко за рамки материального благополучия. Вопрос не только в уровне цен или снижении покупательной способности. Существенный удар нанесён по чувству достоинства. За последние десятилетия было подорвано то, что многие американцы считали основой своей идентичности — вера в справедливость и осуществимость «американской мечты». Особенно это ощутимо среди тех, кто не имеет высшего образования, но затронуло и значительную часть выпускников университетов.
Американская мечта никогда не сводилась к гарантии успеха. Это была система убеждений — вера, надежда и уверенность в том, что упорный труд, настойчивость и самоотдача дают каждому шанс построить более благополучное будущее для себя и своей семьи. Она предполагала, что вне зависимости от происхождения и стартовых условий, любой человек имеет реальную возможность оказаться среди победителей — даже в условиях перемен и нестабильности.
Именно утрата этой веры стала глубинной причиной нарастающего социального недовольства и политической поляризации. Сломавшееся обещание восходящей мобильности оставило многих без ощущения перспективы и смысла, трансформируя экономическое напряжение в устойчивое политическое недоверие.
Чудо среднего класса после Великой депрессии
Подъём американского среднего класса после разрушительных последствий Великой депрессии представляет собой феномен исторического масштаба. Отправной точкой этого подъёма была крайне неблагоприятная ситуация: экономическая система США оказалась в руинах, а вера в невидимую руку свободного рынка, доминировавшая в период администрации Кальвина Кулиджа, лишь усугубляла кризис, ограничивая возможности Вашингтона на эффективное вмешательство.
Перелом произошёл с реализацией Нового курса президента Франклина Д. Рузвельта — масштабной программы, ориентированной на поддержку наименее защищённых слоёв общества и на восстановление устойчивости экономической системы. В рамках этой политики государство взяло на себя активную роль в обеспечении экономической стабильности, содействии полной занятости и защите граждан от рыночных злоупотреблений со стороны монополий и политического влияния плутократии.
Именно в этот период были созданы ключевые элементы американского социального государства: система социального обеспечения, страхование по безработице, легализация профсоюзов и коллективных переговоров, а также принятие Закона о справедливых трудовых стандартах, который установил минимальные стандарты условий труда. Это способствовало восстановлению доверия к экономике и укреплению веры в американскую мечту — в возможность социального и экономического продвижения благодаря собственным усилиям.
Среда, в которой формировались взгляды будущих политиков, включая Рональда Рейгана, предполагала, что государство существует для поддержки «маленького человека». Период активной государственной политики, сочетающей инвестиции, регулирование финансовой сферы и социальную защиту, стал основой для послевоенного экономического процветания и формирования прочного среднего класса.
Однако начиная с 1980-х годов, под влиянием идеологии экономического либерализма и прихода к власти администрации Рональда Рейгана, США начали отходить от рузвельтовской модели. Новая экономическая парадигма, основанная на концепции предложения и теории «просачивания благ» сверху вниз, существенно изменила роль государства в экономике. При Рейгане максимальная предельная ставка подоходного налога была снижена с примерно 70% до 40% в течение десятилетия, и на протяжении последующих 35 лет эта политика практически не подвергалась пересмотру — независимо от партийной принадлежности президентов.
Снижение налоговой нагрузки на высокодоходные группы сопровождалось свёртыванием социальных программ. Несмотря на то, что наиболее популярные элементы социальной политики сохранились, государство стало постепенно отказываться от активной роли гаранта социальной стабильности. «Видимая рука» помощи, которая характеризовала политику Нового курса, была заменена «невидимой рукой» рынка, что привело к эрозии социальной защиты и росту уязвимости рабочих семей в условиях экономических потрясений.
Глоботические потрясения бьют по незащищённому среднему классу
Ослабление социальной политики в Штатах совпало по времени с другим глубоким структурным сдвигом — революцией в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которая с 1970-х годов способствовала ускорению промышленной автоматизации, а с конца 1980-х — стала важнейшим катализатором глобализации. Совокупное воздействие этих факторов — того, что Ричард Болдуин (2019) называет «глоботическим шоком» (от слов «глобализация» и «роботизация») — привело к масштабной дестабилизации рынков труда во всех развитых экономиках. Глобализационный компонент этого шока получил название «китайского шока», отражая последствия стремительного роста китайского экспорта для промышленного сектора в странах Запада.
Воздействие ИКТ на рынок труда носит дифференцированный характер, особенно с точки зрения уровня квалификации работников. Наибольшие потери понесли представители среднего класса, занятые физическим трудом и не обладающие высшим образованием. Именно эти рабочие места — прежде считавшиеся стабильными и достойно оплачиваемыми, особенно в промышленности — оказались наиболее уязвимыми перед лицом технологических изменений. Автоматизация производства значительно повысила эффективность замены работников средней квалификации машинами, что привело к снижению их заработных плат и сокращению числа доступных рабочих мест.
Противоположная динамика наблюдается в отношении работников с высшим образованием. Для них развитие ИКТ стало источником повышения производительности и роста доходов. Улучшенные инструменты — от персональных компьютеров и офисного программного обеспечения до специализированных аналитических систем — расширили возможности работников, занятых в высококвалифицированных и наукоёмких секторах.
Этот контраст между влиянием технологий на различные категории работников получил название «поворота навыков» (skill-biased technological change). ИКТ-технологии стали субститутами для среднего труда, но комплементарными инструментами — для труда высококвалифицированного. С начала 1970-х годов, особенно после появления микропроцессора в 1973 году, данное расслоение в возможностях и доходах стало одной из ключевых причин роста экономического неравенства в США и других развитых странах.
ИКТ стимулировали глобализацию и офшоринг
Влияние революции в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на американских рабочих, особенно в обрабатывающей промышленности, стало ощутимым ещё с 1970-х годов, когда автоматизация начала вытеснять рабочие места на промышленных предприятиях. Однако наиболее масштабный и трансформационный эффект начался с конца 1980-х годов, когда ИКТ стали основным технологическим катализатором офшоринга — переноса производственных процессов в страны с более низкими издержками труда.
Ключевым фактором этого процесса стало то, что ИКТ-технологии сделали возможным дробление производственных цепочек на отдельные этапы, каждый из которых мог быть размещён в разных странах. Благодаря цифровым средствам коммуникации и координации, компании смогли управлять этими глобальными производственными системами с высокой степенью эффективности. Иными словами, ИКТ сделали офшоринг технически осуществимым, а значительные межстрановые различия в оплате труда сделали его экономически выгодным.
Одним из часто упускаемых из виду, но принципиально важных последствий этого процесса стало перемещение передовых производственных технологий американских и других западных компаний — включая таких гигантов, как Tesla — в развивающиеся экономики. Там эти технологии были объединены с дешёвой рабочей силой, в результате чего возникла новая конкурентная комбинация: высокие технологии при низкой стоимости труда. Это значительно усилило давление на работников развитых стран, где прежняя модель сочетала высокие технологии с высокой заработной платой. Тем самым была подорвана конкурентоспособность их труда на глобальном уровне.
С аналогичными трудностями столкнулись и работники в других развивающихся странах, которые не привлекли производственные инвестиции. Их позиции были ослаблены конкуренцией со стороны стран, обеспечивших уникальное сочетание передовых технологий и низких затрат на рабочую силу.
В результате страны, сумевшие реализовать данную комбинацию, продемонстрировали резкий рост своей доли в глобальном промышленном производстве — прежде всего, Китай. Напротив, доля стран с высокими технологиями и высокой оплатой труда, таких как США, начала сокращаться. При этом остальной мир, характеризующийся низким уровнем технологий и низкой заработной платой, не продемонстрировал значимых изменений в своей позиции в мировой производственной системе.
Особое значение имеет скорость, с которой происходили эти глобальные сдвиги. В отличие от прежних индустриальных трансформаций, они были вызваны технологиями, развивающимися по экспоненциальной траектории. Это сделало их беспрецедентно быстрыми и оставило уязвимыми целые категории работников, не успевших адаптироваться к новой экономической реальности.
Последующее опустошение: социальные патологии в Америке
С переходом от социальной политики эпохи Рузвельта к доктрине «просачивания благ сверху вниз», характерной для экономического курса с 1980-х годов, американский средний класс оказался один на один с нарастающими шоками глобализации. В условиях сокращения государственных механизмов поддержки и разрушения социальной инфраструктуры, эти потрясения оказали разрушительное воздействие на благосостояние и стабильность широких слоёв населения.
Отсутствие эффективных систем социальной защиты усилило уязвимость среднего класса, особенно в условиях технологических и глобализационных трансформаций. Это привело к возникновению социально-экономических последствий, ранее нехарактерных для развитой экономики, и значительно отличающихся от ситуации в других странах с высоким уровнем дохода. Среди этих последствий — учащение массовых расстрелов в школах, масштабный опиоидный кризис, эпидемия ожирения, банкротства среди медицинских работников, один из самых высоких в развитом мире уровней материнской смертности, кризис студенческой задолженности, рекордные показатели заключённых, высокий уровень бедности среди пожилых, рост бездомности, а также увеличение числа самоубийств и других так называемых «смертей от отчаяния» (Case & Deaton, 2020), особенно среди представителей среднего класса с низким уровнем образования.
Эти социальные патологии представляют собой системные сбои, демонстрирующие масштаб эрозии прежней модели социальной мобильности и стабильности. В отличие от других развитых стран, где сильные институты социального государства смягчили последствия экономических трансформаций, в США их отсутствие сделало уязвимые группы населения особенно подверженными социальному и психологическому деструктивному воздействию современных кризисов.
Разочарование среднего класса: наблюдая, как богатые отдаляются, а бедные их догоняют
На протяжении последних десятилетий американский средний класс наблюдал, как доходы и благосостояние верхних слоёв общества стремительно отдалялись вверх по шкале распределения, в то время как группы с низким доходом постепенно сокращали разрыв снизу. Как отмечает Джон Берн-Мердок в своей недавней колонке Data Points (Burn-Murdoch, 2025), именно средний класс оказался зажатым между двумя противоположными тенденциями. В определённом смысле можно утверждать, что американская мечта продолжала работать — но не для тех, кто традиционно считался её основой.
Отсутствие адаптивной социальной политики в ответ на экономические и технологические шоки привело к формированию общества, в котором базовые ожидания в отношении безопасности и стабильности оказались подорваны. Показательным является то, что современные школьники в США проходят тренировки по реагированию на массовые расстрелы — в тех же самых классах, где их родители когда-то участвовали в обычных учениях по пожарной безопасности. Это не только символический, но и системный сдвиг, отражающий изменение восприятия рисков и утрату уверенности в институциональной защите.
Удивительно, но широкое общественное мнение всё чаще не выражает ожиданий, что политическая система способна или даже должна предложить решения для этих проблем. Такое ощущение бессилия политических институтов на фоне реальных экономических трудностей и социальной дезинтеграции стало основой глубокого, устойчивого недовольства среди представителей среднего класса. Оно проявляется не только в экономических показателях, но и в нарастающей социальной апатии, политической поляризации и общем ощущении кризиса общественного контракта.
Американское недовольство и ответная реакция
Неудивительно, что представители американского среднего класса в конечном итоге выразили глубокое и вполне оправданное недовольство. На протяжении десятилетий они поочерёдно отдавали свои голоса традиционным кандидатам от Демократической или Республиканской партий, однако ни одна из сторон не предложила действенных решений, способных смягчить нарастающие социально-экономические трудности. Более того, политическая система США так и не выдвинула реалистичных и доверительных планов по восстановлению социальной поддержки, поскольку внедрение действенной социальной политики неизбежно потребовало бы повышения налогов — шаг, ставший политически невозможным в американской действительности по целому ряду сложных, институционально укоренённых причин.
После четырёх десятилетий стагнации доходов, ухудшения условий труда и обострения неравенства, избиратели избрали фигуру, выходящую за пределы политического истеблишмента — миллиардера, который возложил ответственность за кризис среднего класса на глобализацию и культурные трансформации, обозначаемые как «пробуждение». Парадоксально, но, несмотря на риторику защиты интересов простых американцев, предложенные им решения сводились к дальнейшему ослаблению социальной политики, снижению налогов для корпораций и состоятельных слоёв населения.
С рациональной точки зрения подобная программа могла показаться далёкой от интересов среднего класса. Однако с точки зрения политического поведения это оказалось эффективной стратегией. Объяснение этому феномену можно найти в глубоком разочаровании избирателей традиционными политическими элитами. Многолетнее чувство предательства со стороны обеих партий сформировало общественный запрос на радикальные перемены. Избиратели были готовы поддержать любую альтернативу, которая по своей сути отличалась от прежнего политического порядка.
Таким образом, политические потрясения, произошедшие в ноябре 2016 года и вновь в 2024 году, можно рассматривать как симптом разрушения консенсуса, сложившегося в послевоенной Америке, и как проявление нарастающего кризиса доверия к институтам. В глазах значительной части избирателей настал момент, когда перемены стали неизбежными — независимо от формы, в которой они пришли.
Почему акцент делается на антиторговле?
Хотя всплеск негативных общественных настроений и рост популизма в США представляются логичными в контексте нарастающего недовольства среднего класса, остаётся принципиальный вопрос: почему современный популизм принимает столь выраженную антиторговую форму?
На первый взгляд, объяснение может показаться очевидным. Если внешняя торговля, в условиях отсутствия эффективной государственной поддержки, нанесла ущерб положению среднего класса, то логично предположить, что ограничение торговли — через введение тарифов — должно исправить ситуацию. Однако это предположение, несмотря на кажущуюся интуитивную убедительность, в корне неверно.
С практической и экономической точек зрения тарифная политика не способна — и не может – решить структурные проблемы, с которыми сталкивается американский средний класс. Это обусловлено тем, что тарифы защищают преимущественно сектора, производящие товары, — прежде всего обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Однако доля занятости в этих отраслях сегодня крайне незначительна: около 8% приходится на обрабатывающую промышленность и лишь 2% — на сельское хозяйство. Между тем подавляющее большинство американцев занято в сфере услуг — сегменте, на который тарифная политика не распространяется.
Импортируемые услуги, в отличие от товаров, не проходят через физическую таможню, а значит, не могут быть обложены пошлинами. Это фундаментально ограничивает эффективность тарифов как инструмента экономической защиты.
Более того, тарифы, в силу своей природы, фактически оказывают обратный эффект на большинство представителей среднего класса. Они повышают цены на повседневные потребительские товары — включая те, что покупаются миллионами американцев каждую неделю в таких розничных сетях, как Walmart, — при этом не предлагая компенсационного роста занятости или заработной платы в секторе услуг. Таким образом, вместо поддержки, тарифы оказываются дополнительным финансовым бременем для домохозяйств со средним доходом.
С учётом этих факторов становится очевидным, что антирыночная риторика и протекционистские меры, несмотря на их политическую привлекательность, не представляют собой действенного ответа на глубокие структурные вызовы, с которыми сталкивается американский средний класс.
Антиторговая политика как оправдание непринятия эффективной политики
Таким образом, становится очевидным, что тарифная политика не способна решить фундаментальные проблемы американского среднего класса. В то же время альтернативные подходы, успешно применяемые в других развитых экономиках — такие как расширенные социальные программы, прогрессивное налогообложение и активное участие государства в перераспределении доходов, — оказываются в США политически недостижимыми. Широкие слои американских избирателей, особенно среди среднего класса, по-прежнему скептически настроены к идее увеличения налоговой нагрузки и расширения роли государства в экономике, несмотря на потенциальную эффективность подобных решений.
В условиях отсутствия стратегии, которая одновременно была бы экономически действенной и политически приемлемой, политические элиты США — вне зависимости от партийной принадлежности — прибегли к давно апробированному подходу: переложить вину на внешние силы. Когда системные проблемы кажутся нерешаемыми, следующим шагом становится поиск внешнего «виновника», который может быть представлен общественности в качестве причины всех бед.
Именно в этом контексте торговые партнёры США — и особенно Китай — стали удобной мишенью для обвинений. Риторика, направленная против иностранных конкурентов и международной торговли, стала универсальным инструментом, используемым как демократическими, так и республиканскими политиками. Подобная стратегия позволяет избежать неприятных разговоров о внутренней социальной и налоговой политике, переключая внимание избирателей на экзогенные факторы.
Резюме и заключительные замечания
Медленно нарастающие трудности, с которыми на протяжении последних десятилетий сталкивается американский средний класс, представляют собой ключевой фактор, лежащий в основе политической реакции, приведшей к власти Дональда Трампа и сделавшей тарифы центральным элементом экономической повестки. Однако проблемы среднего класса нельзя сводить исключительно к последствиям глобализации и технологического прогресса. Более того, ответственность за это положение не лежит на самом среднем классе. Истоки нынешнего кризиса, по сути, заключаются в том, что глоботические потрясения — совокупность вызовов, связанных с автоматизацией и международной торговлей (Baldwin, 2019) — ударили по обществу, в котором была демонтирована система государственной поддержки, ранее помогавшая населению адаптироваться к подобным структурным сдвигам.
Отсутствие компенсирующей социальной политики становится особенно заметным при сравнении с другими развитыми странами. Хотя все высокоразвитые экономики подверглись тем же самым внешним шокам, они, как правило, сопровождали их реализацией политики адаптационного характера — системы социальной защиты, программ переобучения, поддержки доходов и инвестиций в человеческий капитал. Это позволило смягчить социальное напряжение и ограничить масштабы деструктивной политической реакции. Там, где недовольство всё же возникало, оно чаще проявлялось в виде обеспокоенности иммиграцией, а не требованиями изменить торговую политику.
Следовательно, популярность тарифов в американском политическом дискурсе объясняется не их эффективностью, а их политической удобностью. Тарифы стали заменой непопулярной, но потенциально действенной социальной политики, предполагающей повышение налогов и расширение функций государства. Более того, они выполняют важную символическую функцию — создают иллюзию, что проблемы среднего класса вызваны внешними силами, а не внутренними системными сбоями. Такая интерпретация находит отклик у избирателей, несмотря на то, что структурные причины кризиса во многом «сделаны в Америке».
Эта ситуация имеет три важных последствия для будущего мировой торговли:
Во-первых, в обозримой перспективе американский средний класс, вероятнее всего, останется в уязвимом положении. Торговая политика неспособна устранить коренные причины его недомогания — прежде всего потому, что большинство занятых в этом сегменте населения работают в сфере услуг, которую тарифы не защищают, а, напротив, лишь дополнительно обременяют через рост потребительских цен. Решения, способные реально изменить ситуацию, требуют политической воли к перераспределению и инвестициям в человеческий капитал — чего нынешняя политическая система США предложить не может.
Во-вторых, антирыночная и протекционистская риторика в США началась задолго до президентства Трампа — уже в период администрации Обамы наблюдались признаки торгового скепсиса. С учётом того, что ни одна из ключевых политических партий не предлагает структурных решений, основанных на социальной поддержке, поиск внешних виновников — будь то Китай или международные торговые соглашения — останется доминирующей темой американской политики на протяжении последующих лет.
В-третьих, несмотря на рост протекционизма в США, это не означает неминуемого краха всей мировой торговой системы. На долю США приходится менее 15% глобального товарооборота. Пока другие государства сохраняют приверженность принципам открытой торговли и не следуют примеру США в двусторонних отношениях, мировая торговля, в целом, имеет шансы на стабильное развитие.
UTC+00







